Кронштадтская "побудка"
18 августа 1919 года... Эту ночь, думается, помнят все, кто остался жив до сего дня, несмотря на то что прошло более
сорока лет.
Так как после налета англичан, длившегося около часа, никто уже не ложился спать, то этот эпизод стал называться
«английской побудкой» в отличие от других, бывших в истории Балтийского флота во время войны с немцами. К сожалению,
ни писатели, ни историки не сделали подробного описания или анализа этого события. А оно того стоит. (Лишь Леонид Соболев,
бывший одним из участников отражения этого налета на Кронштадт, посвятил ему шесть страниц в сборнике «Морская душа»,
но связанный боевым, а затем аварийным расписанием на «Андрее Первозванном», он не мог видеть того, что потом творилось
на берегу. Однако он сделал хорошее дело, воздав должное Л. М. Галлеру, который запретил огонь по объекту на воде, так как
это грозило «поднять на воздух» наши же заградители с минами, стоявшие на другой стороне гавани.)
До 15 августа включительно английские самолеты налетали на Кронштадт только по утрам или вечером, почти в одни и те же часы и,
несмотря на полное отсутствие над Котлином наших истребителей, сбрасывали бомбы так неточно, что к налетам выработалось какое-то
пренебрежение. Вот почему воздушная тревога в 3 ч 45 мин в ночь с 17 на 18 августа была воспринята кронштадтцами без особого чувства
беспокойства. Злые реплики не вовремя разбуженных людей можно было слышать вместе с грохотом незашнурованных ботинок на трапах, пока
команды разбегались по боевым постам.
К лету 1919 г. советские моряки ничего не подозревали о существовании так называемых «торпедных катеров».
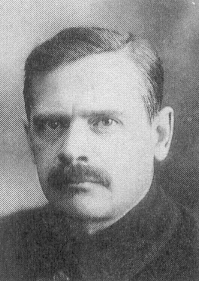 Причина нашей неосведомленности заключалась в том, что «СМВ» появились полтора года назад, и, хотя немцы уже знали о них,
англичане продолжали конспирировать, рассчитывая использовать эффект внезапности в последующих операциях,что им в какой-то мере
удавалось. Поскольку после Октября 1917 г. британское адмиралтейство заняло по отношению к РСФСР крайне враждебную позицию,
а с ноября 1918 г. перешло к прямым военным действиям на море, нам пришлось познакомиться с торпедными катерами на практике совершенно неожиданно.
Первая статья о «СМВ» появилась в научном журнале «Engineering» весной 1923 г. за подписью сэра Д. Е. Торникрофта (главы известной фирмы)
и лейтенанта Бремнера, о котором придется еще поговорить, так как он участвовал в налете 18 августа 1919 г.
Так как к этому времени мы уже имели в своих руках один из таких катеров, поднятый с грунта, после удачной стрельбы «Гавриила», то можно
сказать, что английское техническое описание «СМВ» не было далеко от истины.
Причина нашей неосведомленности заключалась в том, что «СМВ» появились полтора года назад, и, хотя немцы уже знали о них,
англичане продолжали конспирировать, рассчитывая использовать эффект внезапности в последующих операциях,что им в какой-то мере
удавалось. Поскольку после Октября 1917 г. британское адмиралтейство заняло по отношению к РСФСР крайне враждебную позицию,
а с ноября 1918 г. перешло к прямым военным действиям на море, нам пришлось познакомиться с торпедными катерами на практике совершенно неожиданно.
Первая статья о «СМВ» появилась в научном журнале «Engineering» весной 1923 г. за подписью сэра Д. Е. Торникрофта (главы известной фирмы)
и лейтенанта Бремнера, о котором придется еще поговорить, так как он участвовал в налете 18 августа 1919 г.
Так как к этому времени мы уже имели в своих руках один из таких катеров, поднятый с грунта, после удачной стрельбы «Гавриила», то можно
сказать, что английское техническое описание «СМВ» не было далеко от истины.
Торникрофт и его соавтор отмечают, что на «СМВ» возлагались задачи: несения дозора в Канале ; атаки на базы немецких подводных лодок в
Зеебрюгге и Остенде ; постановки дымзавес для прикрытия больших кораблей и т. д. К дальним объектам катера должны были доставляться
легкими крейсерами. По уверению авторов, несмотря на такое многоцелевое предназначение, «СМВ» неизменно имели успех, потопили несколько
вражеских миноносцев у бельгийского побережья, сыграли большую роль в атаке баз немецкого флота и подорвали один вспомогательный крейсер,
не считая транспортов . При этом англичане не имели ни одного случая потери катеров от артиллерийского огня.
Единственным печальным для них происшествием был обстрел одного из катеров немецким самолетом, который, атаковав его несколько раз, перебил
своими пулеметами большую часть экипажа.
Выводы, которые сделало Адмиралтейство в 1918 г., можно свести к двум основным.
1. Катера являются опасным оружием для противника, пока последний еще не научился с ними бороться; фирме выдать большой заказ с заданием
увеличить размерення «СМВ» для повышения их море
ходности.
2. Как правило, «СМВ» должны действовать ночью с тем, чтобы не
попадать под огонь штурмующих самолетов.
Авторы не сказали главного: почему «владычица морей», имевшая в строю более двух десятков дредноутов, перешла на использование таких
малогабаритных кораблей, которые получили почти презрительное прозвище «москитные силы». Дополняя Торникрофта и Бремнера, надо сказать,
что после Ютландского боя стратегия так называемых «великих морских» держав зашла в тупик. Оказалось, что прошли те времена, когда
линейные корабли решали проблему господства на море.
Начались лихорадочные поиски новых сил и средств. Линкоры стали беречь и не выпускать из гаваней, так как, помимо войны с кайзеровской
Германией, приходилось думать о том, что у США больше возможностей, чтобы построить новые линейные корабли, а, следовательно, к концу
войны стать сильнее Великобритании. Вот почему наряду с ростом авиации стали быстро развивать торпедные катера. Малые габариты облегчали
их скрытую переброску в Финляндию для борьбы с советским флотом.
15 февраля 1928 г. коммандер Эгар, делая «научный» доклад в «научном обществе», оперируя теми же ложными цифрами, рассказал дополнительно
много интересного. Оказывается, он с двумя «СМВ» был скрытно проведен 11 июня через Швецию и Финляндию для обеспечения связью постоянного
резидента в Петрограде — Поля Дьюкса. Он лично несколько раз ходил на катере от Териок до Петрограда, к островам в устье Невы, поэтому
никаких «проводников» ему не требовалось для прохода ночью между северными фортами к Лахте. Участвуя в операции Добсона, он сам служил
проводником; отсюда же идея захода атакующих со стороны Петрограда. Всего было 8 катеров, но на одном произошел взрыв в моторном отделении
еще в начале движения от Териок.
Самое же примечательное в докладе Эгара то, что он скромно умолчал о том, как они вместе с Добсоном, увидя результаты первых выстрелов
«Гавриила», повернули назад, предоставив молодым лейтенантам и сублейтенантам таскать для них каштаны из огня. Есть такой деликатный военный
термин «ретироваться». Так вот, два коммандера благополучно ретировались из этого «проклятого Кронштадта».